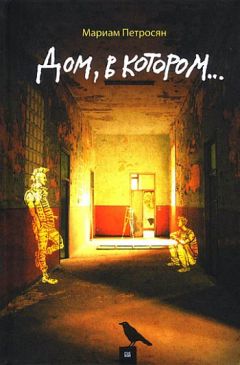Зачем он привел меня сюда? Только чтобы задать свой вопрос? Чтобы соблазнить ветром, цикадами и пусть обожженными, но целыми и настоящими руками? Если он подозревал, каким будет ответ… Он уже показал мне, где хранятся ключи от сейфа, на той же связке болтаются и ключи от дома, рассказал о соседях, в холодильнике наверняка есть еда… Собирался оставить меня здесь с самого начала, еще не услышав ответа на свой вопрос? А самое страшное — он уверен, что для меня так будет лучше. И мне его не переубедить.
Объяснения иссякли.
Слепой молчит. Не смотрит, только слушает, низко склонив голову. Указательным пальцем рисует на клеенке мелкие спиральки, которые постепенно становятся все шире. Одновременно раскручивается живущая в нем пружина, о которой знает даже Курильщик. Внимательно слежу за рисующей рукой и догадываюсь, что зря старался. Слух Слепого — страшная штука. Его почти невозможно обмануть.
— И все же попробуй, — предлагает он. Слишком бесстрастно. По коже пробегает холодок. Я пугаюсь уже по-настоящему.
— Попробуй объяснить, — говорит он. — Все это время ты рассказывал, почему мне невозможно объяснить, за что ты так любишь Наружность. Привел уйму примеров, но толком ничего не сказал. Так что попытайся еще раз. Закидай меня словами, спрячь за ними свой страх. Может, получится лучше. Может, в этот раз я не услышу, как бросаю тебя здесь с чокнутыми соседями и парой консервных банок в холодильнике, а сам исчезаю с демоническим хохотом, потому что так велел мне мой Господин Серое-Здание-в-Три-Этажа!
Я вскакиваю, опрокинув кресло. В жизни не слышал, что бы Слепой так орал. Вернее, чтобы он вообще кричал.
Он тоже вскакивает. В распахнутых глазах по крохотному зеленому светлячку. У людей так не бывает. Я почти уверен, что он бросится на меня, но вместо этого он с такой силой врезает кулаком по столу, что вся веранда вздрагивает. Вместе со мной. Отчетливо слышен треск. Что это было — стол или кость?
Мы оба дышим так, словно только что дрались, но его трясет сильнее. Я почти уверен, что он сломал себе руку.
— Слепой, — говорю я шепотом.
— Заткнись! — кричит он. — Идиот!
Потом опускается на стул и закрывает глаза. Сидит неподвижно. Скручивает обратно соскочившую пружину, медленно, виток за витком, укладывает ее обратно.
Я подбираю свой стул. Сажусь. Ноги дрожат. Едкий сосновый дух, заполнивший веранду, постепенно слабеет.
— Я не смог бы этого сделать, — говорит Слепой, не открывая глаз. — Даже если бы захотел. Ты — самый придурочный из когда-либо существовавших Ходоков. И один из самых сильных. Все дороги открыты перед тобой, ключи от всех дверей у тебя в кармане, но ты гордо отправишься покорять Наружность, потому что хочешь прожить жизнь безруким калекой. Иди, живи, делай, что хочешь. Но хотя бы знай, кто ты на самом деле.
Не знаю, что хуже. То, что он сказал, или то, какими словами воспользовался. Он никогда так не говорил, и никто другой в Доме не позволил бы себе подобного. Я сижу, оглушенный его словами и его злобой, глотая воздух, и пытаюсь представить, какого Слепого я сегодня еще не видел. Знаю ли я вообще этого человека или это существо, или только думал, что знаю, а на самом деле не знал ничего, даже о себе самом. Потому что он не соврал, так не врут даже Ходоки, то есть мы, ведь я, получается, тоже Ходок, причем из изощренных, если я хоть что-то понял в этой тираде о дорогах, дверях и ключах.
Незнакомец напротив обхватывает голову руками, одна из которых распухает на глазах, и горестно шипит:
— Ходоки, мать вашу! Я тоже вас ненавижу. Пятеро на весь Дом, и четверо из них, видите ли, сделали свой идиотский выбор. Один слишком влюблен, чтобы соображать, другому приспичило искупать какую-то воображаемую вину, третьему надо повидать мир и он чихал на всех, четвертый ненавидит Изнанку! А что прикажешь делать мне? Сколько, по-твоему, у меня жизней в запасе, чтобы отыскивать и перетаскивать всех по одному?
С каждым его словом меня все сильнее терзает чувство вины. Ничего не уточняю и не переспрашиваю. Кажется, я больше не имею на это права. Я знал, что он будет уговаривать, может, даже просить, но не ожидал, что это будет так. Еще немного, и я передумаю. Надо держаться. Рано или поздно это закончится.
В изнаночном мире почти стемнело. Блеклая полоса заката потухла, телеграфные столбы растворились в сумерках. Я знаю, что скоро небо усеет крупными, как пуговицы, звездами, и это будет очень красиво.
Слепой наконец замолкает. Видимо, тоже полностью иссяк. В сумерках он еле различим.
— Ты руку не сломал? — спрашиваю я.
— Не знаю.
— А лед у тебя в холодильнике есть?
Слепой встает и шаркает к холодильнику. Щелкает выключателем. Лампа в зеленом абажуре заключает стол в круг света, и сразу оказывается, что уже совсем темно. Чашки, как ни странно, уцелели, но дождевая лужица разлилась по всем направлениям и перестала быть лужицей; теперь клеенку испещряют тонкие грязные полосы.
Я тянусь к своей чашке. Кофе тоже не расплескался. Руки почти не болят, или я этого уже не чувствую. Слепой достает из холодильника лед.
Я знаю, что время разговоров прошло, знаю, что сейчас любой мой вопрос его только взбесит, но не могу удержаться, потому что, когда мы вернемся, он опять будет изображать безмятежного Слепого, и я никогда не узнаю…
— Почему ты так упорно расспрашивал меня о цвете, Слепой? Когда мы были детьми. Ты же здесь прекрасно видишь.
— Тебя отфутболить обратно? — устало спрашивает он.
Да. Этап откровений явно миновал.
— Нет, — отвечаю я. — Пока не надо. Можно еще кофе?
Он проверяет кофеварку и включает ее. Снимает пиджак и прикладывает к руке лед, примотав его какой-то подозрительной тряпкой, похожей на кухонное полотенце. Держит эту безобразную муфточку на весу. Теперь у нас одна здоровая рука на двоих, и самые простые действия усложнились.
— Тогда не видел, — вдруг говорит Слепой. — Я бывал только в Лесу и только по ночам. И не в том виде, чтобы различать цвета. А ты что подумал? Что я виртуозно играл роль слепого малютки?
Счастливый оттого, что он соизволил ответить, я отвечаю:
— Вообще-то, если честно, то да.
Он кривится.
— Ну, конечно. Юный эмиссар Изнанки. Ты параноик, Сфинкс.
— Знаю.
Слепой кое-как разливает кофе, и мы кое-как его пьем. Зеленый абажур такой глубокий, что освещает только стол, все остальное остается в тени. Мотыльки со стуком бьются о лампу.
— Значит, Лес, находится где-то еще? Не здесь?
Он смотрит угрюмо.
— Это разновидность терапии или светская болтовня? А может, тебя совесть замучила? С каких это пор ты интересуешься Лесом?
— Не будь таким мстительным, Слепой, — прошу я. — Мне и так хреново.
Он пожимает плечами.
— Лес не здесь. Туда не попадешь вот так, запросто. Не найдешь дорогу. Он или приходит к тебе сам, или нет. Лес ни под кого не подлаживается.
Глаза Слепого все еще отсвечивают зеленым. Хотя сейчас эти отблески можно счесть отражением лампы. Я хочу спросить о сосновом запахе, но сдерживаюсь. Что-то непривычное прозвучало в голосе Слепого, когда он говорил о Лесе. Уважение? Нежность? Вот чего я сегодня еще не видел.
— А это место, значит, подлаживается? — уточняю я.
— Можно сказать и так.
— Можно ли считать реальным место, которое под кого-то подлаживается?
Слепой вздыхает.
— Что ты вообще считаешь реальным, Сфинкс? Дом?
— Да, — отвечаю, не подумав, и тут же понимаю, что попался. Причем по-дурацки. Реальность, в которой состайник оборачивается огненным ящером и сжигает тебе протезы до каркаса?
Слепой усмехается, но не пользуется возможностью ткнуть меня носом в очевидное. Вместо этого вдруг делается серьезен.
— А Русалка? — спрашивает он. — Ты спросил, чего бы хотелось ей?
Я настораживаюсь.
— Она сказала, что примет мой выбор.
— А вдруг она не может выбирать? Вдруг она вообще не из нашего мира?
— Что это значит, Слепой?
Он опять усмехается.
— Мало ли что… Но если она из другого мира, в Наружности ей места нет.
— Так не бывает, — отвечаю я, стараясь сохранять спокойствие. — Ты это выдумал прямо сейчас, на ходу.
— Ну, разумеется, — он утыкается в чашку. — Чего я только не придумаю, лишь бы тебя удержать.
Я понимаю, что по-человечески нам с ним уже не поговорить. Он так и будет меня запугивать. Допустим, я параноик, но зачем на этом так безжалостно играть?
— Прекрати, Слепой, — говорю я. — Уважай мой выбор, как я уважаю твой.
— Конечно, — он устало прикрывает глаза. — Как скажешь.
Но мне теперь уже не избавиться от ускользающего образа Русалки, которая грустно машет мне из-под толщи воды, исчезая в неведомом мире. Черт бы побрал Слепого… Есть на свете хоть что-то, что для него недопустимо?
Чуть погодя он встает и выключает свет. Мы оказываемся в кромешной темноте. Но ненадолго. Крупные звезды проступают на черном бархате ночи. Если приглядеться, они разноцветные. Я отодвигаюсь от стола и закидываю ноги на перила. Слепой облокачивается о них. Мы сидим молча и смотрим на звезды.
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](https://cdn.my-library.info/books/127223/127223.jpg)